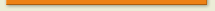Концентрационные лагеря в Третьем рейхе были не только местом содержания врагов нацистской империи, но и испытательными полигонами по созданию нового порядка. Каждый лагерь напоминал небольшой город. Как и в любом городе, там были свои больницы, называемые кранкенбаумами. Ими руководили штатные сотрудники медицинской службы СС. Кроме врачей СС в кранкенбаумах трудились врачи из числа заключенных .. Именно эти узники, на чьи полосатые робы были наброшены застиранные белые халаты, обязаны были трудиться в лагерных больницах. И, как правило, эти врачи принимали неравный бой со своими «коллегами» из медицинской службы СС.
Собственно, врачи –эсэсовцы в лагерях лечили только самих эсэсовцев. Их «работа» с узниками сводилась либо к проведению селекций, либо к медицинским экспериментам.
Имена этих «докторов смерти» сегодня достаточно хорошо известны. Особенно имя Йозефа Менгеле, чье имя давно уже стало нарицательным. Имена врачей – узников известны меньше. К большому сожалению. Потому что в большинстве случаев врачи - узники были настоящими героями. Их подвиги стоят в одном ряду с бойцами антифашистского Сопротивления на оккупированных нацистами территориях.
Эта статья «Спектра» посвящается им, врачам – узникам из нацистских концлагерей.
Хирург № 11461
Бывший узник Аушвица, советский военнопленный Андрей Погожев, вспоминал, что почти все заключенные воспринимали лагерный лазарет как место, где не лечат, а наоборот добивают.Сам Андрей Александрович тоже остерегался блока №21 в центральном лагере, того самого блока, где с 1940 года располагалась больница для узников. Но так вышло, что 31 марта 1942 года он сам попал туда. С проникающим пулевым ранением левой кисти. Когда Погожев, заключенный № 1418, после работы присел возле канавы с водой, чтобы помыть грязные руки, в него выстрелил эсэсман, дежуривший неподалеку. Выстрелил просто так.
Первыми людьми, которых раненый Погожев встретил в 21 –м больничном блоке, были врачи – узники. Эти люди не были похожи на убийц. Скорее наоборот, «это были не врачи, а друзья». Особенно Андрею Александровичу запомнился пожилой врач с хмурым продолговатым лицом. Этим врачом был известный на всю Польшу терапевт и хирург доктор мелицины Вильгельм Тюршмидт, уроженец польского города Тарнов.
В условиях концлагерного барака, с минимумом инструментов и лекарств, доктор Тюршмидт и его коллега, Александр Гурецкий, сделали сложнейшую операцию и спасли руку Погожева. А также и жизнь.
Андрей Александрович в своих мемуарах позже попытался передать разговор этих двух врачей, который произошел сразу после операции. Врачи общались по – польски, но Погожев, который находился в концлагерях уже около года, научился понимать польскую речь.
Гурецкий, ассистировавший Тюршмидту во время операции на руке Погожева, был поражен врачебному искусству своего коллеги. «Для спасения жизни больного нужно было просто ампутировать руку, а ведь Вы этого не сделали», - сказал Гурецкий. На что Тюршмидт ответил: «это, конечно, риск. Но нужно спасти руку. Без нее он сразу погибнет в лагере. Примем все меры, чтобы предотвратить заражение».
В больницах для узников почти не было лекарств. Вместо бинтов использовались тонкие бумажные ленты, а шприцы, как правило, не менялись. Поэтому в больничных блоках существовала неофициальная должность «организатора», человека, который мог любым путем достать дефицитные лекарства, инструменты, перевязочный материал. Если такой
«организатор» попадался в руки эсэсовцам, то политический отдел лагеря нещадно расправлялся и с больничным поставщиком, и с врачами. Тюршмидт и его коллеги, прекрасно зная об этом, продолжали идти на риск, в очередной раз отправляя «организатора» в «экспедицию» за медикаментами.
Несмотря на видимое спокойствие, лагерная больница все же была и оставалась частью лагеря уничтожения. Особое беспокойство врачам и пациентам доставляли регулярные селекции больных, которые проводились уже другими врачами, в форме СС. По мере возможности, персонал «кранкенбаума» старался уберечь своих подопечных от смертного приговора, но силы были чересчур неравны. После обхода кранкенбаума главным лагерным врачом, отобранные им узники заранее начинали собираться в последний путь, который заканчивался в кремационной печи лагеря.
В памяти Погожева также сохранились визиты в больницу еще одного врача – эсэсовца, который, по словам бывшего узника, решил переквалифицироваться из глазника в хирурга». «Окулист приходил с чисто немецкой точностью в одни и те же часы и дни недели, приходил в освобожденную к его приходу операционную и по карточкам выбирал больного для своей практики. Под общим или местным наркозом он резал что хотел и как хотел. В зависимости от сложности операции на стол к нему попадали два-три узника. Многие из них вместо скорого выздоровления или умирали, или превращались в калек, которые при очередной селекции уносились из зала с номером на груди», - писал Погожев. После того, как этот «доктор смерть» уходил, Тюршмидт клал его жертву обратно на операционный стол, чтобы если не спасти, то хотя бы облегчить страдания несчастного.
Андрей Погожев осенью 1942 года принял участие в первом массовом побеге из лагеря. Потом он снова попал в плен, откуда снова бежал… Пройдя через немыслимые мытарства, он дожил до Дня Победы и предстал свидетелем обвинения на Франкфуртском «процессе Аушвица» в 1964 году.
Жизнь его спасителя, доктора Тюршмидта, трагически оборвалась в мае 1942 года. Средь бела дня прямо из операционной он был уведен в спецтюрьму Аушвица, блок №11, а спустя день расстрелян.
Есть версия, что лагерные гестаповцы узнали о связях больницы для узников с местным Сопротивлением, и что в 21 –м блоке под видом больных скрывались те активисты Сопротивления, кому в лагере угрожала расправа. Как ни странно, но это было так. Кранкенбаум служил негласным штабом лагерного Сопротивления, а врачи были одними из самых деятельных активистов. Человек, давший клятву до конца жизни спасать людей, не может разделять идеологию нацистов.
Позже, после войны, Андрей Погожев напишет о своем спасителе, Вильгельме Тюршмидте : «замечательный человек, искусный хирург, в тяжелейших условиях лагеря избавивший сотни заключенных от физических страданий и мучительной смерти. Своим словом, советом, ободряющей улыбкой он поддерживал мужество и веру больных в будущее...Светлая память о нем будет жить в сердцах всех, кто знал его, Вильгельма Тюршмидта, поляка, узника № 11461».
Акушер в лагере смерти
Вместе с мужчинами товарные вагоны привозили в концлагеря и женщин. Всех возрастов: от девочек до дряхлых старушек. Каждый большой эшелон привозил в концлагеря беременных женщин.
В кранкенбаумах больших лагерей были свои специалисты – гинекологи, мужчины и женщины. Гинекологи – мужчины, которые работали в лагерях по специальности, в основном носили форму СС. Помощи от них узницам ждать не приходилось. Типичным гинекологом в форме СС был Карл Клауберг, работавший в Аушвице и Равенсбрюке. Клауберг занимался опытами по массовой стерилизации женщин «неарийского» происхождения: облучал матку и яичники смертельными дозами рентгена, проводил без наркоза операции по гистероэктомии (удалению матки), экспериментировал с
прерыванием беременности на разных сроках… Почти каждый опыт этого «гинеколога» заканчивался смертью жертвы эксперимента.
Гинекологов – женщин в лагерях было меньше.В основном, у них на груди был пришиты номер и винкель, а волосы на голове были срезаны машинкой для стрижки овец. Одной из таких была полька Станислава Лещинская, по образованию – акушер.
Пани Лещинская позже скажет: « из тридцати пяти лет работы акушером, два года я провела как узница лагеря смерти Освенцим или Аушвиц. Там я продолжала выполнять свой профессиональный долг медика. Несмотря ни на что».
В Аушвиц почти каждый день прибывало огромное число женщин, среди которых было много беременных. Стоит сказать, что после 16 марта 1942 года женская зона переместилась в дощатые бараки Биркенау. До этого она располагалась в в десяти первых бараках «Аушвица - 1». Но если в кирпичных двухэтажных бараках «Аушвица 1», бывших польских казармах, санитарные условия были более –менее сносными, то «новостройки» Биркенау напоминали сараи. По сути, они и были сараями. На каждом таком бараке красовалась надпись Das Pferdebarack – «конюшня». Стены этих «конюшень» были прогрызены крысами, в щелях кишмя кишели вши и блохи, а с потолка на узников периодически пикировали клопы.
Лещинская вспоминает, в каких условиях жили женщины, и где она сама выполняла работу акушера:
«Внутри барака с обеих сторон возвышались трехэтажные нары, на которых размещались на грязных соломенных матрасах по три или по четыре женщины. Солома давно стерлась в пыль, и больные женщины лежали на почти голых не струганных досках, к тому же с сучками, впивавшимися в тело». Родильным столом служила печь, которая стояла посредине барака и тянулась почти по всей длине. «Топили печь изредка. Поэтому донимал холод: мучительный, пронизывающий, особенно зимой, когда с крыши свисали длинные сосульки».
В бараках – конюшнях не было водопровода, поэтому воду, столь необходимую для роженицы и ребенка, Лещинская носила сама. Чтобы принести одно ведро воды, надо было потратить не меньше двадцати минут. При этом, ни асептических средств, ни перевязочных материалов у акушера Лещинской не было. По сути, не было и обыкновенных гинекологических инструментов.
Поначалу Станислава Лещинская была предоставлена самой себе. Позже, поосвоившись в лагере, она познакомилась с польской узницей, врачом Иреной Конечной. Доктор Конечная работала в соседнем отделении и периодически помогала своей коллеге в случае осложнений у рожениц. Когда Лещинская заболела сыпным тифом, заботу о ней взяла еще одна польская узница, Ирена Бяловна, тоже врач. Доктор Бяловна не только спасла свою коллегу от смерти, но и во время болезни Лещинской ухаживала за роженицами.
Роженицам требовался не только медицинский уход, но и психологическая поддержка. Будущие матери страдали от голода, поскольку втайне копили пайки хлеба, чтобы потом обменять их на простыню. Потом эта простыня разрывалась на куски, которые и служили пеленками для малыша. Стирка пеленок также превращалась в проблему, во многом, из –за дефицита воды в бараках. Выстиранные пеленки женщины сушили на своих телах.

Как начиналась жизнь тех детей, которые родились в страшных бараках Биркенау? Лещинская вспоминает, что эти дети не жили и двух дней. Их сразу после рождения топили в специальном бочонке. «Это делали медсестры Клара и Пфани. Первая была акушеркой по профессии, и попала в лагерь за детоубийство. Поэтому она была лишена права работать по специальности. Ей было поручено совершать то, для чего она была более пригодна. Она стала старостой барака. Для помощи к ней была приставлена немецкая уличная девка Пфани. После родов младенца уносили в комнату этих женщин, где детский крик обрывался и до рожениц доносился плеск воды, а потом… роженица могла увидеть тельце своего ребенка, выброшенное из барака и разрываемое крысами».
У рожденных в Аушвице детей шанс на жизнь появился в мае 1943. И вовсе не оттого, что немецкая администрация стала более гуманной.Дело в том, что весной 1943 года в медицинской службе лагеря появился обаятельный и улыбчивый немец. Звали его Йозеф Менгеле.
Менгеле распорядился, чтобы голубоглазых и светловолосых детей оставляли в живых. Спустя некоторое время их отправляли в Германию с целью «германизации». Остальных детей доктор Менгеле берег для своих опытов. А еврейских детей продолжали нещадно умерщвлять. О том, чтобы скрыть еврейского младенца среди неевреев, не могло быть и речи. «Клара и Пфани попеременно внимательно следили за еврейскими женщинами во время родов. Рожденного ребенка татуировали номером матери, топили в бочонке и выбрасывали из барака».
Свой трагический рассказ Станислава Лещинская заканчивает так: «у меня до сих пор не было возможности передать Службе Здоровья свой акушерский рапорт из Освенцима. Передаю его сейчас во имя тех, кто уже никогда не сможет рассказать миру о причиненном им зле. И если в моем Отечестве, несмотря на печальный опыт войны, могут возникнуть тенденции, направленные против зародившейся жизни, то я надеюсь на голос всех акушеров, всех настоящих матерей и отцов, всех порядочных граждан в защиту жизни и прав ребенка». Этот призыв актуален и по сей день.
 Ангел Аушвица
Ангел Аушвица
Гизелла Перл – известный врач – гинеколог из Венгрии. До самой своей кончины в 2000 году она помогала новой жизни появиться на свет. Очень многие матери в знак благодарности называли своих новорожденных дочерей в честь доктора Перл, Гизеллой. Люди называли ее любовно «доктор Гизи» или «Гизка». Благодарные пациентки из Нью – Йорка и Иерусалима, где доктор Перл провела последние годы своей жизни, порой и не знали, что собственный сын доктора Перл ...был убит в 1944 году в Аушвице. Вместе со всей семьей доктора Перл. В Аушвице доктор Перл вела неравный бой с самим Йозефом Менгеле.
Гизелла Перл родилась в венгерском городе Сигете. Она была первой женщиной и единственной еврейкой, которая закончила полный курс средней школы в городе. После окончания учебы в университетах Клужа (Венгрия) и Берлина она стала первой женщиной – гинекологом в городе. До войны у доктора Перл в Венгрии была обширная частная практика. Ее знали практически по всей стране и за ее пределами.
1944 год. При поддержке режима Ференца Салаши в Венгрию входят немцы.Семья доктора Перл, как еврейская, этапируется новыми властями в Аушвиц В числе многих тысяч других семей венгерских евреев.
По прибытию в концлагерь эшелон был разделен на две половины: тех, кому был дан шанс выжить, выполняя непосильную работу (около 3 тысяч человек), и тех, кого уже ждали газовые камеры и печи (около 9 тысяч человек). Соответственно, «живых» и «мертвых» эсэсовцы развели направо и налево. Вся семья доктора Перл: ее отец, мать,муж, сын Имре были отправлены «налево». В сторону газовых камер и крематориев.
Сами эсэсовцы женщин – узниц вообще не считали за людей. «Возле этих несчастных постоянно кружили охранники СС и надзирательницы. Они били несчастных женщин дубинками и кнутами, натравливали на них собак. Женщины - эсэсовки любили таскать узниц за волосы и бить их в живот коваными немецкими сапогами....Если какая –нибудь несчастная падала от этих издевательств в изнеможении, ее, еще живую, могли отправить в крематорий». Так описывала доктор Перл повседневную жизнь в женской зоне Биркенау.
Как уже было сказано, у беременных в Аушвице не было практически никакихъ шансов нормально рожать и воспитывать детей. После появления в лагере доктора Менгеле ситуация поменялась, и некоторых новорожденных стали оставлять в живых. Аушвиц был для Менгеле громадной исследовательской лабораторией.Менгеле планировал провести колоссальное исследование в области генетики человеческих рас. Для этого ему был
нужен качественный подопытный человеческий материал. Опыты на детях в работе Менгеле занимали особое место. Своих маленьких жертв улыбчивый врач – садист именовал «мои морские свинки».
В 1944 году Менгеле узнал в лагерной комендатуре, что среди новоприбывших есть ведущий специалист –гинеколог из Венгрии. Менгеле на своей машине отправился в «венгерский сектор», где вызвал доктора Перл из общего строя и завел с ней разговор. Узнав, что заключенная Перл училась медицине в Берлине, и имела частную гинекологическую практику, Менгеле довольно улыбнулся.
В интервью для New York Times в 1982 году доктор Перл вспоминает первое поручение, которое ей дал «доктор смерть». «Менгеле сказал, что нужно отправить всех беременных женщин в оздоровительный лагерь, где они будут жить в нормальных условиях, получать усиленное питание и квалифицированную помощь Он попросил меня повторить его слова перед строем женщин нашей зоны, потому что мне, как узнице, поверили бы больше, чем ему. Я исполнила его просьбу, после чего женщины буквально устремились к Менгеле со словами «я беременная». Только потом я узнала, что большинство из них стали подопытными кроликами для этого врача – убийцы, а затем сожжены в крематории».
После того, как Гизелла Перл узнала страшную правду об экспериментах над беременными, она попыталась покончить с собой, приняв яд. Но яд не подействовал, и доктор Перл начинает делать то, на что бы не до войны никогда не решилась: массовые аборты среди узниц. Прямо на грязных полах и барачных нарах, безо всякой анестезии и инструментов. «Я использовала только свои грязные руки», - писала Перл в своей автобиографии. В тех случаях, когда у беременной был слишком большой срок, доктор Перл вручную разрывала околоплодную водную оболочку и стимулировала шейку матки, чтобы вызвать преждевременные роды. Недоношенный ребенок умирал почти мгновенно.Всего доктор Перл сделала в Аушвице около трех тысяч подобных абортов, надеясь на то, что мать доживет до освобождения и в будущем еще сможет иметь детей.
Одновременно с этим доктор Перл продолжала ассистировать столь ненавистному ей Менгеле. В случае неповиновения ее бы ждала газовая камера. Заключенные знали о том, что она вынуждена работать на Менгеле или догадывались об этом. Но если сам Менгеле получил прозвище «доктор смерть», то доктора Перл узницы называли «ангелом Аушвица».
Одна из бывших узниц Аушвица после войны вспоминала, как узницы женского отделения Биркенау вдруг стали резко покрываться ужасной гноящейся сыпью. Доктор Перл, узнав об этом, почти каждую ночь навещала больных узниц и смазывала пораженную сыпью кожу специальной мазью. Так продолжалось до той поры, пока почти все заболевшие не поправились. Бывшая узница Аушвица полагает, что причиной появления сыпи был суп с каустической содой, которым в Аушвице кормили узниц. Так это или нет, но эта женщина говорит, что «без медицинских знаний госпожи Перл и ее готовности пожертвовать собой для на с в любую минуту, неизвестно, что бы было потом со мной и другими женщинами – узницами».
В больнице Биркенау почти не было лекарств. Когда было нечем лечить больных, Гизелла Перл просто разговаривала с ними, настраивала на то, что все эти ужасы скоро закончатся.
«Я лечила пациентов своим голосом, рассказывала им красивые романтические истории. Говорила им, что в один прекрасный день мы родимся снова и снова будем петь песни...Я точно не знала, пришелся ли на этот день Рош –ха –Шоно, но чувствовала этот праздник подсознательно. Мы устроили в больнице импровизированный праздничный стол из хлеба, маргарина и колбасных обрезков, словом, из того, что мы получали в качестве лагерного пайка. Я сказала, что сегодня Новый год, а наступивший год будет лучше, чем нынешний». В лагерной больнице доктор Перл лечила переломы, травмы головы,зашивала рваные раны, которые наносили узницам своими кнутами эсэсовцы. И все так же продолжала делать подпольные аборты.
Только после освобождения доктор Перл узнала страшную правду о судьбе всей своей семьи. Отчаявшаяся женщина предприняла вторую попытку самоубийства. Выходил
Гизеллу Перл один французский врач – стоматолог. Он попросил своего друга, католического священника, позаботиться о несчастной женщине, поскольку «ее душа серьезно страдает после тех ужасов, которые она пережила в лагере». Доктор Перл смогла оправиться от потери и вернуться к работе, которой отдала потом всю оставшуюся жизнь.
Каждый раз, когда Гизелла Перл входила в родильный зал, она читала краткую молитву: «Боже, Ты должен мне жизнь, жизнь ребенка».
Врач со скрипкой
В лагере смерти Саласпилс, «прибалтийском Аушвице», также было предусмотрено лечение узников, в том числе, больных детей. Лечили больных врачи – узники под руководством докторов из медицинской службы СС. Таким образом, лагерная администрация выполняла все условия Женевской конвенции о военнопленных. Это подтверждает вышедшее не так давно учебное пособие «История Латвии», предисловие к которому написал тогдашний президент страны Вайра Вике – Фрайберга. Но на самом деле больничные бараки Саласпилса, как и сам лагерь, работали только на уничтожение.
Бывшая узница лагеря Акилина Лелис вспоминает, как доктора СС «лечили» больных детей:
«В детских бараках распространялись корь и дизентерия. Мы просили немецкого врача осмотреть детей, дать лекарства. Но он равнодушно махнул рукой: «одним больше или меньше». Позже доктора из лагерной санчасти, Какис и Майзнер, обратили внимание на массовую смертность детей, обратились в Ригу, откуда в Саласпилс вскоре прибыли какие –то медикаменты. Малолетних узников буквально нашпиговывали этими препаратами. Вдобавок, врач СС приказал делать детям клизму из их собственной мочи. После такого «лечения» смертность только возросла. Санитарки из детского блока обратились к тем узникам, которые до войны работали врачами. К сожалению, история сохранила только их фамилии, Бдилс и Олейников. Врачи – узники сразу поняли, что нацисты хотят поскорее избавиться от детей как от лишнего балласта и приказали санитаркам саботировать эсэсовские рекомендации. Женщины пошли на это, прекрасно зная, что их может ждать. То же самое они делали, когда в бараке № 12 эсэсовцы открыли «детскую больницу».
Что за больницу устроили нацисты для больных детей? Медсестра Думпе,латышка, работавшая в 12 блоке, рассказала, что «больные дети спали по двое, по трое в одной кроватке. Все они получали лекарство от дизентерии, хотя у многих поноса не было. Положение больных с каждым днем становилось все хуже и хуже». Думпе прекратила давать детям нацистские лекарства, а также ставить детям клизмы из мочи, как этого требовал доктор СС Какис. Реакция эсэсовских извергов была незамедлительной: видя, что дети умирают не так быстро, как нужно, медсестер и санитарок стали контролировать.Но женщины продолжали упрямо игнорировать распоряжения убийц. «Нас эсэсовцы прямо спрашивали : «почему дети так мало умирают?» Мы в недоумении молчали. А эсэсовский врач издевался: «лучше здесь протянуть ноги, чем висеть на столбе вверх ногами». Изверг с дипломом врача имел в виду следующее: каждое утро на одной из виселиц лагеря подвешивали за ноги ребенка. Несчастный умирал в мучениях. Это ужасное зрелище было видно всем узникам «прибалтийского Аушвица».
Стоит рассказать и о докторе Бдилсе, враче – узнике, отдавшем за спасение людей свою жизнь. О нем рассказал после войны Петерис Вигантс, работавший в лагерной больнице Саласпилса санитаром.
Немцы не жертвовали на больницу ни пфеннига. В санчасти не было ни бинтов, ни лекарств, ни инструментов. На какое –то время больницу выручили лекарства, пожертвованные аптекарями из чешских и австрийских эшелонов. Но эсэсовцы, проводя очередной обход, обнаружили это бесценное сокровище и конфисковали со словами «нашим солдатам на фронте это нужнее, чем вам, грязным свиньям». Доктор Бдилс хотел покончить с собой, но санитар Вигантс сказал ему : «больные зовут Вас, доктор».
Бдилсу ничего не оставалось делать, как направиться к больным. Он старался лечить добрыми словами, надеждами на будущее. Вот, что он говорил молодой, но уже совсем седой больной женщине –латышке, матери троих детей, брошенной в лагерь смерти за помощь военнопленным: «Что, у вас трое сыновей? И ещё такие маленькие! Тогда надо скорее выздоравливать, встать на ноги и ехать домой. Да, домой. Скоро все поедем. Наши уже совсем близко... Вот обрадуются мальчики, когда снова будете вместе...» После этих слов несчастной узнице казалось, что «боль в груди уже не так сильна, как вначале. И дышать не так тяжело». Тем узникам, которым перебило ноги на каменоломнях, врач говорил : «никаких костылей. Да и на этих ногах вы отсюда не пойдете. Вы побежите на них как стайеры!» Так доктор Бдилс и лечил: добрыми, сердечными ободряющими словами. Но он знал, что одно и то же лекарство на всех не годится. После наглой кражи лекарств у доктора Бдилса осталось еще одно средство: музыка. Какое –то время в Саласпилсе содержался молодой скрипач из Австрии. Перед тем, как его увели на казнь, он подарил свою скрипку доктору Бдилсу, который сам был хорошим музыкантом.
Бдилс играл на этой скрипке своим пациентам. По словам Вигантса, при звуках музыки у пациентов «утихала боль, забывался голод, дыхание становилось ровнее». Скрипка как будто призывала: «держись, надо бороться».
Но все внезапно кончилось. В комендатуру сообщили, что заключенный врач Бдилс «играет на скрипке коммунистические песни». В больничный барак ворвался роттенфюрер Теккемейер, ближайший помощник коменданта. Увидев в руках Бдилса скрипку, взбешенный эсэсовец вырвал ее из рук врача и разбил о печку. «Песенки коммунистов ты помнишь, а что –то поважнее забыл», - прошипел Теккемейер. «Ты забыл, что посреди лагеря стоит виселица». Через несколько дней доктора Бдилса увезли в Рижскую центральную тюрьму, а оттуда – в Бикеиерникский лес, место массовых расстрелов.
После освобождения стало известно имя человека, который написал донос на врача. Им оказался некто Изарс, заключенный, завербованный комендатурой в качестве стукача. Изарс умер в тюрьме в 1945 году, во время процесса над нацистскими преступниками в Латвии.
Его имя в Латвии проклято и забыто. А убитый в Биекирнекском лесу самоотверженный доктор Бдилс, расстрелянный в Аушвице профессор Тюршмидт, благородный доктор Гизелла Перл, которую пациенты называли «доктор Гизи», и другие врачи, спасавшие жизни узников концлагерей, до сих пор живы.
Артур Приймак
"Спектр"